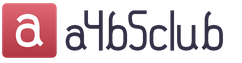10.06.2010 - 18:43
Все мы читали повесть Александра Пушкина «Пиковая дама», и даже те, кто не особенно любят литературу, помнят знаменитую формулу «Тройка, семерка, туз» - волшебные карты, которые помогут выиграть любому. Но мало кто знает, что эта повесть основана на реальных событиях, и у Пиковой дамы имелся прототип - княгиня Голицына…
Фрейлина-графиня
17 (28) января 1741 года у графа Петра Григорьевича Чернышева родилась дочь, названная Натальей. Ей было суждено прожить жизнь, полную ярких событий и удивительных встреч… Семья Чернышевых относилась к самым богатым в России. Дед Натальи Петровны был денщиком Петра I, и российский император принимал самое деятельное участие в судьбе своего любимца.
К моменту смерти царя Чернышев уже обладал несметным количеством душ и деревень. Как это ни странно, преемники Петра тоже ласково обходились с семьей царского фаворита и приумножали его и без того немалое состояние.
Детство Натальи прошло в изысканной роскоши, она училась у самых лучших учителей и одевалась у самых лучших портных. Ее особое положение еще более усиливало то, что она была придворной фрейлиной - и одной из самых красивых и любимых…
За свою красоту Наталья Петровна даже получила на одном из балов персональную золотую медаль, на которой было высечено имя графини. Сейчас эта медаль хранится в Эрмитаже. Красота, блестящее образование, незаурядный ум и значительное состояние привлекали к ней мужские сердца. В результате графиня могла «в женихах как в сору копаться». И выбрала среди претендентов на ее руку и сердце самого родовитого и богатого, принадлежавшего к наиболее известной и родовитой фамилии - князя Владимира Борисовича Голицына.
Они поженились в 1766 году, и молодая княгиня быстро взяла все бразды правления в свои руки - именно она распоряжалась богатым имением и городским домом.
 У четы Голицыных родились три сына и две дочери. Мать со всей строгостью подходила к их воспитанию - и не даром. Все ее дети в будущем достигли больших высот и положения. Все труды окупились - в том числе и поездка за границу, предпринятая для того, чтобы младшие Голицыны получили самое лучшее европейское образование.
У четы Голицыных родились три сына и две дочери. Мать со всей строгостью подходила к их воспитанию - и не даром. Все ее дети в будущем достигли больших высот и положения. Все труды окупились - в том числе и поездка за границу, предпринятая для того, чтобы младшие Голицыны получили самое лучшее европейское образование.
Голицыны отправились во Францию, где купили роскошный особняк и зажили светской жизнью. Княгиня Наталья Павловна была принята при дворе Марии Антуанетты. Она получила прозвище «Московская Венера» и покорила множество сердец - в том числе и королевских. Английский король Георг II в знак восхищения подарил Наталье Петровне свой акварельный портрет с любезной надписью.
Вернувшись на родину, княгиня в своем петербургском доме на углу Гороховой и Малой Морской попыталась устроить такой же великосветский салон, какой был у нее во Франции, и вполне преуспела в своих начинаниях - все самые знатные и известные люди стремились попасть к ней…
По воспоминаниям современников: «К ней ездил на поклонение в известные дни весь город, а в день ее именин ее удостаивала посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя императора, сидя и не трогаясь с места. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более или менее приветливых слов. И все посетители оставались, по-видимому, весьма довольны».
И еще одно упоминание о княгине «Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру ее поздравить и нашел там весь город. Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на ее аппетит и бодрость».
В имении Голицыных так же постоянно бурлила светская жизнь - балы, приемы, спектакли… Ее «карьера» придворной дамы тоже вполне удалась - почести и награды следовали одна за другой. Она получила несколько орденов, звание статс-дамы. Голицына пережила пятерых русских царей и ни при одном из них не потеряла своего особого положения. К старости Голицына внешне стала весьма непривлекательной - из-за выросших усов ее называли «усатая княгиня». Но своего крутого характера она не утратила до последних дней.
После ее смерти, последовавшей в декабре 1837 года, остались несметные богатства, множество крепостных душ, земель, деревень. И легенда о тайне, которой владела княгиня….
Загадка Сен-Жермена
 В 1834 году, когда княгиня была еще жива и по-прежнему оставалась самой влиятельной дамой Петербурга, вышла «Пиковая дама» Александра Сергеевича Пушкина. Вскоре поэт написал в дневнике: «Моя "Пиковая дама" в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и Натальей Петровной и, кажется, не сердятся».
В 1834 году, когда княгиня была еще жива и по-прежнему оставалась самой влиятельной дамой Петербурга, вышла «Пиковая дама» Александра Сергеевича Пушкина. Вскоре поэт написал в дневнике: «Моя "Пиковая дама" в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и Натальей Петровной и, кажется, не сердятся».
Действительно, свет быстро обнаружил похожесть Голицыной на старуху из повести Пушкина. Поэт, конечно, кое-что изменил, чтобы сходство совсем уж не бросалось в глаза, но догадаться все равно было очень легко.
Вот как описывает Пиковую даму ее внук: «Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus moscovite (московскую Венеру); Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости».
Это прямое указание на события, происходившие с княгиней Голицыной… Пушкин дружил с внуком княгини Сергеем Григорьевичем Голицыным и тот однажды рассказал ему интересную историю…
Как-то раз молодой Голицын проиграл в карты огромную сумму. Он пожаловался на эту беду своей бабке и попросил у нее денег - чтобы отыграться. Денег она не дала, но открыла внуку секрет, позволивший ему отыграться…
Голицына рассказала внуку, как много лет назад крупно проигралась в Париже, а денег для выплаты долга не имелось. И ей помог… граф Сен-Жермен, загадочная личность, алхимик, изобретатель эликсира бессмертия. Пушкин записал эту историю и так родилась «Пиковая дама».
 Вот как он рассказал о событиях, случившихся с княгиней Голицыной в Париже: «С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного.
Вот как он рассказал о событиях, случившихся с княгиней Голицыной в Париже: «С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного.
Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих «Записках» говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный…
Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.
Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою, - сказал он, - но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться».
«Но, любезный граф, - отвечала бабушка, - я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны, - возразил Сен-Жермен: - извольте меня выслушать».
Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал»...
Так княгиня вернула свое состояние, и с тех пор ей всегда везло в картах. В «Пиковой даме» старая княгине никому не открывала секрет Сен-Жермена, но в действительности младший Голицын все же узнал ее тайну, поставил на эти карты и отыгрался, но никогда больше не играл - такое условие перед ним поставила Голицына…
Это история кажется фантастической, но, тем не менее, Голицына в действительности встречалась в Париже с Сен-Жерменом и в самом деле однажды сумела вернуть состояние, проигранное ее мужем…
- 7988 просмотров
| Наталья Петровна Голицына | |
|---|---|
| Имя при рождении | графиня Наталья Петровна Чернышёва |
| Дата рождения | 17 (28) января (1744-01-28 ) |
| Место рождения | Берлин , Германия |
| Дата смерти | 20 декабря 1837 (1 января ) (1838-01-01 ) (93 года) |
| Место смерти | Санкт-Петербург , Российская империя |
| Страна | |
| Род деятельности | статс-дама |
| Отец | Чернышёв, Пётр Григорьевич |
| Мать | Екатерина Андреевна Ушакова ( -) |
| Супруг | Голицын, Владимир Борисович |
| Дети | 3 сына и 2 дочери |
| Награды и премии | |
| Наталья Петровна Голицына на Викискладе | |
Биография
Происхождение
Дочь дипломата и сенатора графа Петра Григорьевича Чернышёва от брака с Екатериной Андреевной Ушаковой . Происходила из рода так называемых новых людей, появившихся в начале XVIII века в окружении Петра Великого .
Дедом её по мужской линии был денщик Петра I, представитель небогатой и незнатной дворянской фамилии Григорий Петрович Чернышёв . Стремительный взлёт карьеры императорского денщика начался, когда Пётр I женил его на 17-летней красавице, бесприданнице Евдокии Ржевской , дав за нею в приданое 4000 душ. И потом родившимся от этого брака сыновьям жаловал на зубок деньги и деревни .
В светских кругах ходила молва, что Наталья Петровна приходилась императору родной внучкой. Императрица Елизавета Петровна , как и её отец, осыпала Чернышёвых особыми милостями, жаловала им доходные поместья, графские титулы, и вскоре Чернышёвы стали одним из богатейших семейств России. По материнской линии Наталья Петровна была внучкой известного своей жестокостью графа А. И. Ушакова , начальника розыскной канцелярии .
Молодые годы
Точный год рождения Натальи Петровны многочисленные источники называют по-разному - или 1744 год . Сама она писала в своих заметках :
Её отец, граф Чернышёв, был отозван из Берлина и назначен посланником в Лондон в 1746 году . Так что можно с уверенностью сказать, что родилась Наталья Петровна в 1744 году .
Детство её прошло в Англии. Её мать воспользовалась продолжительным пребыванием за границей и дала своим дочерям блестящее европейское образование. Они свободно владели четырьмя языками, но плохо знали русский язык.
Став княгиней, Наталья Петровна постоянно при Дворе не находилась и бывала там лишь изредка, когда оглашались высочайшие повеления или когда получала высочайшее приглашение. Наталья Петровна подолгу жила в имениях своего отца и мужа, занималась воспитанием и образованием детей. Энергичная, с твёрдым мужским характером, она взяла управление хозяйством мужа в свои руки и вскоре не только привела его в порядок, но и значительно увеличила.
Жизнь в Петербурге
Свой дом княгиня превратила в великосветский салон для французской эмиграции. Ф. Ф. Вигель писал :
Наталья Петровна была буквально образцом придворной дамы. Её осыпали почестями. На коронации Александра I ей пожаловали крест Святой Екатерины 2-й степени . На её балу 13 февраля 1804 года присутствовала вся императорская фамилия. В 1806 году она уже статс-дама. Вначале знак статс-дамы был получен её дочерью, графиней Строгановой , которая вернула его с просьбой пожаловать им её мать. При коронации Николая I ей был пожалован орден Святой Екатерины 1-й степени. Предупредительность властей к Наталье Петровне была удивительна: когда она стала плохо видеть, специально для неё изготавливались увеличенные карты для пасьянса; по её желанию в голицынское имение в Городне могли прислать придворных певчих. По воспоминаниям Феофила Толстого , музыкального критика и композитора :
| К ней ездил на поклонение в известные дни весь город, а в день её именин её удостаивала посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя императора, сидя и не трогаясь с места. Возле её кресла стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как в последнее время княгиня плохо видела. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более или менее приветливых слов. И все посетители оставались, по-видимому, весьма довольны. Но не подумают, что княгиня Голицына привлекала к себе роскошью помещения или великолепием угощения. Вовсе нет! Дом её в Петербурге не отличался особой роскошью, единственным украшением парадной гостиной служили штофные занавески, да и то довольно полинялые. Ужина не полагалось, временных буфетов, установленных богатыми винами и сервизами, также не полагалось, а от времени до времени разносили оршад, лимонад и незатейливые конфекты. |
В высшей степени своенравная, Голицына была надменна с равными ей по положению и приветлива с теми, кого считала ниже себя. Другой современник княгини В. А. Соллогуб вспоминал :
Наряду с успехами при дворе Наталья Петровна ревностно занималась хозяйством. Она вводила в свои поместья тогда новую культуру - картофель, расширяла и оборудовала новой техникой принадлежавшие Голицыным фабрики. В 1824 году княгиня Голицына стала почётным членом Научно-хозяйственного общества.
Семья
Все современники единодушно отмечали крутой надменный нрав княгини, её характер, лишённый всяких женских слабостей, суровость по отношению к близким. Семья вся трепетала перед княгиней, с детьми она была очень строга даже тогда, когда они сами уже давно пережили свою молодость, и до конца жизни называла их уменьшительными именами.
Управляя сама всеми имениями, Наталья Петровна в приданое дочерям дала по 2 тысячи душ, а сыну Дмитрию выделила только имение Рождествено в 100 душ и годичное содержание в 50 тысяч рублей, так что он принуждён был делать долги, и единственно по желанию императора Николая I она прибавила ещё 50 тысяч рублей ассигнациями, думая, что она его щедро награждает. Только по кончине матери, прожив всю жизнь, почти ничего не имея, за семь лет до своей смерти, князь Дмитрий Владимирович сделался владельцем своих 16 тысяч душ.
Рассердившись как-то на своего старшего сына Бориса Владимировича , Голицына около года совершенно не имела с ним никаких сношений, на его письма не отвечала. Князь Борис никогда не был женат, но умер, оставив сиротами двух внебрачных дочерей от цыганки, носивших фамилию Зеленских. Они воспитывались в семье Дмитрия Голицына, и их существование скрывали от Натальи Петровны.
…Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру её поздравить и нашел там весь город. Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на её аппетит и бодрость… Нет счастливее матери, как старуха Голицына; надо видеть, как за нею дети ухаживают, а у детей-то уже есть внучата.
Вот тебе хроника П.<етер>бургская: вчера праздновали мы столетнее бытие княгини Нат.<альи> Петр.<овны>, не танцевали, но съезд был довольно многолюдный. Несколько генераций теснились вокруг пра-пра-бабки; розы доморощенные увивались вокруг векового дуба <…> Государь прислал княгине две великолепные вазы.
Княгиня Голицына была очень богата. После её смерти осталось 16 тысяч крепостных душ, множество деревень, домов, поместий по всей России. Только Н. П. Голицына, единственная, могла себе позволить для проезда из Москвы в Петербург нанять 16 лошадей. Самое большее, что позволяли себе самые богатые путешественники - это 6 лошадей на тот же путь .
Умерла Наталья Петровна 20 декабря 1837 года. Похоронена в Москве, в усыпальнице Голицыных на Донском кладбище .
Голицына и Пушкин
В молодости Наталья Петровна слыла красавицей, но с возрастом обросла усами и бородой, за что в Петербурге её за глаза называли «Княгиня Усатая», или более деликатно, по-французски «Princesse moustache» (от фр. moustache - усы), хотя ни на одном портрете не видно этой особенности. Именно этот образ ветхой старухи, обладавшей отталкивающей, непривлекательной внешностью «в сочетании с острым умом и царственной надменностью» , и возникал в воображении первых читателей «Пиковой дамы» .
Согласно легенде, внучатый племянник Голицыной
Голицына Natalia Golitsina Карьера: ГражданеРождение: Россия, 28.1.1741
17 января 1741 года, 28 января по новому стилю, родилась княгиня Наталья Петровна Голицына, в девичестве Чернышова, знаменитая "la princesse moustache (т.е. усатая княгиня), послужившая Пушкину прототипом для образа старухи-графини из Пиковой дамы.
17 января 1741 года, 28 января по новому стилю, родилась княгиня Наталья Петровна Голицына, в девичестве Чернышова, знаменитая "la princesse moustache (т.е. усатая княгиня), послужившая Пушкину прототипом для образа старухи-графини из Пиковой дамы.
Один из самых колоритных персонажей российской истории принадлежал к семье незнатной, но до невероятности богатой. Дед Натальи Петровны была личным денщиком Петра Великого, и он принимал деятельное участие в его судьбе и в судьбе его детей. Поговаривали более того, что папа нашей героини был в реальности сыном императора. Такое чуткость монаршей особы, как водится, имело целиком конкретное содержание, в виде крестьянских душ и деревень. Не обходили своей лаской семью Чернышовых и преемники Петра, в частности, Елизавета Петровна и Екатерина Вторая. Так что к моменту рождения нашей героини семейство царского денщика была одной из самых богатых в России.
В результате Наталья Петровна смогла заполучить образование и воспитание по высшему разряду того времени, и жутко удачно вылезти замуж за родовитого, богатого, но непутевого князя Владимира Борисовича Голицына. Сказать, что Голицыны одна из самых родовитых русских семей ничего не проговорить. И, по всей видимости, получив такого мужа и войдя в круг знатнейшей русской аристократии, княгиня Наталья осуществила свою тайную мечту. Во всяком случае, современники вспоминали, что княгиня "все фамилии бранит и выше Голицыных никого не ставит, и когда она перед внучкой своей 6-летней хвалила Иисуса Христа, то девчурка спросила: "Не из фамилии ли Голицыных Иисус Христос?"
Но не только этим запомнилась княгиня Наталья Петровна своим современникам. И более того не выросшими к старости бородой и усами, за что ее прозвали "la princesse moustache. Княгиня Голицына запомнилась тем, что была тогда одной из самых влиятельных персон в обеих столицах, создав себе такое положение, что ей оказывали чуткость все государи и государыни, начиная с Екатерины II и кончая императором Николаем I. Высшее среда считало за честь случаться у нее дома. К ней везли на поклон каждую молодую девушку, начинавшую выезжать в свет, новоиспеченный гвардейский офицер являлся к ней, как по начальству. Семья трепетала перед княгиней, которая своего сына, московского генерал-губернатора Дмитрия Владимировича Голицына, называла Митенькой. А о том, что у другого ее сына, Бориса, есть двое внебрачных детей, которые воспитывались в семье Дмитрия, княгиня, похоже, так до самой смерти и не узнала. От нее тот самый факт нетрудно скрывали.
При дворе Наталью Петровну практически осыпали почестями. На коронации Александра I ей пожаловали крест Святой Екатерины меньшей степени. На ее балах порой присутствовала вся императорская фамилия. Предупредительность властей к княгине Голицыной не знала границ. Она шибко увлекалась картами, и когда стала погано зреть, для нее сознательно были изготовлены карты большого формата. По ее прихоти к ней в имение, расположенное вдалеке от столицы и дорог, могли прислать придворных певчих. По воспоминаниям современников, "к ней ездил на поклонение в известные дни весь городок, а в день ее именин ее удостаивала посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя императора, сидя и не трогаясь с места. Возле ее кресла стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как в последнее время княгиня скверно видела. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила немного больше или менее приветливых слов. И все посетители оставались, по-видимому, крайне довольны".
И ещё одно свидетельство: "Вчера было появление на свет старухи Голицыной. Я ездил поутру ее поздравить и нашел там весь городок. Приезжала кроме того императрица Елизавета Алексеевна. Вечером снова весь град был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на ее аппетит и бодрость". КЦ. Стоит прибавить, что умерла княгиня, родившаяся ещё до императрицы Елизаветы Петровны, в единственный год с Пушкиным, не дожив до своего столетия 4 года.
Так же читайте биографии известных людей:
Наталья Пешкова Natalia Peshkova
Знаешь, когда тебе 17 лет, ты больше думаешь о романах, чем о политике. Ну, и, конечно, мы были совершенно одурачены нашей пропагандой. Нет, у..
Кандидат филологических наук И. ГРАЧЕВА (г. Рязань).
Петербург. Вид арки Главного штаба. Рисунок 1822 года.
Александр Сергеевич Пушкин. Портрет работы В. А. Тропинина. 1827 год.
Княгиня Наталья Петровна Голицына (урожденная Чернышева) не блистала красотой, но пользовалась большим успехом в свете при дворе Екатерины II. Именно она была одной из тех "старух", которые послужили Пушкину прототипами старой графини в "Пиковой даме"
Князь Владимир Борисович Голицын в 1766 году стал мужем Натальи Петровны Чернышевой. Так в петербургском свете появилась новая княгиня Голицына.
Но, пожалуй, больше всего черт характера, а также манеру поведения подсмотрел Пушкин у Натальи Кирилловны Загряжской. В молодости она отличалась не столько красотой, сколько причудами, была умна, любезна и "могла воспламенять сердца".
Княгиня Мария Васильевна Кочубей (урожденная Васильчикова) - та самая племянница Н. К. Загряжской, которую она ребенком забрала у родителей.
Князь Виктор Павлович Кочубей, став мужем Марии Васильевны, впал в немилость у императора Павла I, собиравшегося женить князя на своей фаворитке.
Может быть, такою представлял Пушкин свою старую графиню из "Пиковой дамы" в расцвете молодости и красоты. На портрете - княгиня Екатерина Дмитриевна Голицына (1720-1761).
В 1830 году в Москве судьба свела А. С. Пушкина с серпуховским помещиком В. С. Огонь-Догановским, опытным игроком в карты, которому поэт в азарте проиграл почти 25 тысяч. Выплатить такую огромную сумму сразу он был не в состоянии и выпросил рассрочку на четыре года. Этот случай, о котором судачили в московских гостиных, едва не расстроил помолвку Пушкина с Н. Н. Гончаровой. В письме П. А. Плетневу 31 августа 1830 года поэт жаловался: "Московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери - отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения..." Расчеты с Огонь-Догановским еще долго тяготили его душу.
Этот проигрыш, чуть было не оказавшийся роковым в судьбе Пушкина, несомненно, стал одной из побудительных причин к созданию повести "Пиковая дама". Когда повесть вышла в свет, Пушкин записал в дневнике 7 апреля 1834 года: "Моя "Пиковая дама" в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся..." Близкие друзья Пушкина, Нащокины, рассказывали, что, по словам самого Александра Сергеевича, "главная завязка повести не вымышлена. Старуха графиня - это Наталья Петровна Голицына, <...> действительно жившая в Париже в том роде, как описал Пушкин. Внук ее Голицын рассказывал Пушкину, что раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже Сен-Жерменом. "Попробуй", - сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался. Дальнейшее развитие повести вымышлено. Нащокин заметил Пушкину, что графиня не похожа на Голицыну, в ней больше сходства с Натальей Кирилловной Загряжскою, другою старухою. Пушкин согласился с этим замечанием и отвечал, что ему легче было изобразить Загряжскую, чем Голицыну..."
Какие же черты этих двух женщин трансформировались в пушкинской повести?
Княгиня Наталья Петровна Голицына, урожденная Чернышева, хотя и не слыла красавицей, но в молодости пользовалась неизменным успехом при дворе Екатерины II. В 1766 году в Петербурге, участвуя в конной карусели (вид конного состязания), она получила первый приз - бриллиантовую розу. В том же году Наталья была повенчана с князем В. Б. Голицыным, носившим чин бригадира. В пушкинской повести Томский рассказывал, что его бабушка-графиня некогда "ездила в Париж и была там в большой моде <...> Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много". Отдать долг была не в состоянии, и это заставило ее обратиться за помощью к графу Сен-Жермену, "о котором рассказывали так много чудесного". Тот назвал ей три заветные карты.
Голицына побывала в Париже дважды: в 60-е годы XVIII века, еще до замужества, вместе с отцом (русским посланником П. Г. Чернышевым), и в 80-е, уже с мужем. В повести героиня также находится в Париже с мужем. Однако, как показал Б. Я. Виленчик в статье "Историческое прошлое в "Пиковой даме", все упомянутые у Пушкина реалии - карточная игра у королевы (супруги Людовика XV Марии Лещинской), герцог Орлеанский, Сен-Жермен, проживавший в Париже, и т. д. - могли относиться лишь к первому появлению в столице Франции Натальи Петровны, тогда еще совсем юной девицы. Но художественное повествование никогда не подчиняется непременным требованиям исторической точности. Пушкин писал не документальный очерк, а беллетристическое произведение, используя для создания своих образов и ситуаций лишь отдельные черты реальных судеб, свободно их комбинируя.
А вот отношения графини (из "Пиковой дамы") с мужем, который был всецело под ее башмаком и "боялся как огня", весьма напоминают жизнь четы Голицыных. По рассказам их современницы Е. П. Яньковой, В. Б. Голицын хоть и богатый помещик, но "очень простоватый был человек". Жена легко взяла над ним верх, ставя ему в вину и невысокий бригадирский чин, и расстроенные имения. Голицына же "женщина от природы очень умная была и великая мастерица устраивать свои дела". Взяв управление имениями в свои руки и единолично распоряжаясь ими до конца жизни, она выплатила все долги и сумела значительно приумножить свое состояние. Всех домашних держала в строгом повиновении, повзрослевшие дети не смели садиться в ее присутствии. После смерти В. Б. Голицына его сыновья Борис (29-ти лет) и Дмитрий (27-ми лет), являясь по закону полноправными наследниками, не решались требовать у матери своей доли. По-прежнему всем заправляла она, а сыновьям выдавала годовое содержание по своему усмотрению. Присущей Наталье Петровне энергичной деловитостью, умением разрешать сложные житейские вопросы Пушкин наделил и свою героиню в молодые годы: проиграв огромную сумму денег, она нашла-таки способ выйти из, казалось бы, безвыходной ситуации.
Пушкин отмечает, что его графиня "скупа". Эту черту современники знали и за Голицыной: на вечерах в ее доме, куда съезжалось множество гостей, никогда не предлагалось ужина или основательных закусок, слуги разносили лишь лимонад и конфеты. А для тех, кто гостил в ее имениях, к столу не покупали вина, вынуждая довольствоваться квасом и домашним пивом.
О характере и привычках Натальи Петровны Пушкин мог знать задолго до рассказов ее внука, поведавшего историю трех карт. Имение родителей Пушкина Захарово находилось недалеко от Больших Вязем, где в усадьбе жил старший сын Натальи Петровны, Б. В. Голицын. Семьи были знакомы. Дядя Пушкина, Василий Львович, в 1819 году даже написал торжественные стихи ко дню 78-летия княгини. В конце 1820-х годов в Москве Пушкин бывал в доме другого сына княгини - Д. В. Голицына, назначенного московским генерал-губернатором. Общественное положение обязывало его жить на широкую ногу, давать приемы и балы, устраивать праздники, заниматься благотворительностью, и он очень страдал от того, что прижимистая мамаша выделяла ему из доходов по имениям весьма скромную сумму. Кончилось тем, что в дело вмешался сам Николай I и убедил Голицыну сделать для Дмитрия Владимировича существенную прибавку, чтобы тот не накопил долгов, которые скомпрометировали бы их фамилию и его самого как должностное лицо.
Пушкин же в своей повести рассказывает, что графиня часто недоплачивала своей воспитаннице Лизе причитающуюся ей сумму, "а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие". Примечательны и такие детали: графиня с Лизой зимой отправились на очередной бал, "погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями". Графиня появляется из дома в собольей шубе, ее воспитанница спешит к карете "в холодном плаще", без головного убора, но зато волосы ее украшали свежие цветы, что в такое время года стоило очень дорого. Верхняя ее одежда явно составляла предмет экономии, но в бальную залу она войдет наряженной, "как очень немногие".
В "Пиковой даме" мы узнаем о старой графине: "У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо". А вот что вспоминает о Голицыной Ф. М. Толстой: "В Петербурге (она жила, если не ошибаюсь, в Малой Морской) к ней ездил на поклонение в известные дни весь город, а в день ее именин ее удостаивала посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя императора, сидя и не трогаясь с места. Возле ее кресел стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как в последнее время княгиня плохо видела. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько менее или более приветливых слов".
У Пушкина в повести читаем: "Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде <...>, к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду".
Будучи статс-дамой двора, Голицына непременно появлялась на всех придворных торжествах и увеселениях, и, по свидетельству Яньковой, "все знатные вельможи и их жены оказывали ей особое уважение и высоко ценили ее малейшее внимание". М. И. Пыляев в книге "Замечательные чудаки и оригиналы" (СПб., 1898) писал о ее авторитетности в петербургских великосветских кругах: "К ней вели каждую молодую девушку на поклон. Гвардейский офицер, только что надевший эполеты, являлся к ней, как к главнокомандующему". (У Пушкина Томский просит у графини разрешения представить ей Нарумова.) Власти всячески угождали Голицыной. Зная ее сохранившееся до старости пристрастие к карточной игре, чему препятствовало лишь слабеющее зрение, для нее силами питомцев Воспитательного дома делали специальные колоды карт увеличенного формата. В ее имение, отстоявшее на 200 верст от Петербурга (село Марьино Новгородской губернии), присылали придворных певчих. После декабристского восстания хлопоты княгини помогли облегчить участь ее внучатого племянника З. Г. Чернышева и Муравьевых.
Под стать Голицыной была и Наталья Кирилловна Загряжская. Она, как рассказывал князь П. А. Вяземский, "по всем принятым условиям общежитейским и по собственным свойствам своим долго занимала в петербургском обществе одно из почетнейших мест". Тоже очень любила карты и даже за день до кончины с увлечением играла в бостон. Если эпизоды о прошлом своей старой графини Пушкин взял в основном из биографии Голицыной, то характер ее в старости в большей степени срисовал с Загряжской.
В повести говорится, что графиня и в пожилом возрасте "сохраняла все привычки своей молодости" и "одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет назад". Она принимает явившегося к ней Томского, сидя перед зеркалом, в то время как горничные убирают ей голову. Так было заведено у щеголих XVIII века. В подобной ситуации оказался сам Пушкин, когда в качестве жениха Натальи Николаевны приехал представляться родственнице Гончаровых, Наталье Кирилловне Загряжской. В письме невесте 29 июля 1830 года он рассказывает: "Приезжаю, обо мне докладывают, она принимает меня за своим туалетом, как очень хорошенькая женщина прошлого столетия". После непродолжительной беседы они "расстались очень добрыми друзьями". С тех пор Пушкин часто бывал в ее доме на вечерах и имел возможность достаточно узнать своеобразный характер этой дамы.
Наталья Кирилловна - дочь гетмана Малороссии, К. Г. Разумовского, фрейлина, с юности избалованная обожанием родителей и вниманием царского двора, - отличалась прихотливой капризностью и своенравием. Родители разборчиво подыскивали своей любимице, богатейшей наследнице в России, достойную партию, но она, возвратившись однажды с очередного дежурства во дворце, категорично заявила, что намерена связать свою судьбу с Н. А. Загряжским, офицером Измайловского полка, к тому же еще и вдовцом. Отец едва опомнился от этакого сюрприза, однако, зная упрямство дочери, и не пытался препятствовать, лишь поскорее выхлопотал ее "предмету" чин камер-юнкера. Торжественное венчание, на котором присутствовала вся знать, состоялось в церкви Зимнего дворца. Впоследствии Загряжская, прекрасно сознавая недостатки своей взбалмошной натуры, смеясь, признавалась, что человек менее покладистый и терпеливый, чем ее избранник, сбежал бы от нее после первых же дней медового месяца.
Она не славилась красотой даже в молодые годы, скорее, наоборот, ее можно было бы назвать дурнушкой. Но живость ума, добродушие и умение быть занимательной собеседницей привлекали к ней самых видных и интересных людей. Ее почтительным обожателем стал граф А. И. Шувалов. По сообщению П. А. Вяземского, Шувалов посвящал Наталье Кирилловне стихи, в которых было "много страсти и вместе с тем много сдержанности и рыцарской преданности". В одном из них есть такие строки (в переводе с французского): "Эта непобедимая любовь, которую я ношу в груди, о которой не говорю, но о которой все вам свидетельствует, есть чувство чистое, пламень небесный <...> Проживу свой век несчастливым, если вы меня не полюбите; умру со скорби, если полюбите другого". Вместе с тем автор уверял, что не собирается стать "обольстителем" молодой дамы и был бы рад, добившись лишь ее дружеского расположения.
Могущественный князь Г. А. Потемкин, приезжая из армии в Петербург, галантно ухаживал за ней. Пушкин записал признание Натальи Кирилловны: "Потемкин очень меня любил; не знаю, чего бы он для меня не сделал". В повести Пушкина внук графини передает ее воспоминания: "Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости".
У Загряжской не было детей. Бывая у сестры в Москве, Наталья Кирилловна привязалась к ее дочери Машеньке и однажды самовольно увезла с собой маленькую племянницу. Всполошившиеся родители стали добиваться ее возвращения. Но Загряжская объявила, что в случае, если ей оставят Машу, она сделает ее своей единствен ной наследницей. И родные решили не препятствовать Машиному счастью. Наталья Кирилловна души не чаяла в своей воспитаннице, однако жить в доме властной, своенравной тетки молодой девушке было так же непросто, как и пушкинской Лизе.
С незлобивым простосердечием у Натальи Кирилловны сочеталась чрезмерная капризность, в старости доходившая до невозможных причуд. По рассказу П. А. Вяземского, "она очень боялась простуды, и в прогулках ее пешком по городу старый лакей нес за нею несколько мантилий, шалей, шейных платочков: смотря по температуре улицы, по переходу с солнечной стороны на тенистую и по ощущениям холода или тепла, она надевала и складывала то одно, то другое". Это повторялось через каждые несколько шагов. Однажды, когда она в очередной раз приказала переменить шаль, а лакей замешкался, барыня раздраженно прикрикнула: "Да подавай же скорее! Как надоел ты мне!" Старик, невозмутимо продолжая перебирать ее одеяния, проворчал: "А если бы знали вы, матушка, как вы мне надоели!" Наталья Кирилловна сама со смехом рассказывала этот эпизод гостям.
В повести у Пушкина графиня тоже боится холода, и ее настроение меняется поминутно. То она велит собираться на прогулку и торопит Лизу одеваться. То вдруг спрашивает: "А какова погода? - кажется, ветер". И хотя слуга уверяет, что на улице "очень тихо", графиня настаивает: "Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный!" Прогулка откладывается. Но, "только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету". Пушкин писал: "Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом".
В отличие от деловитой, строгой Голицыной героиня Пушкина в старости предстает бесхозяйственной барыней, не способной держать в руках "многочисленную челядь", которая "делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху". В этом графиня также походила на Загряжскую. Наталья Кирилловна однажды поведала Пушкину, как Потемкин подарил ей земли в Крыму. А она не знала, что с ними делать. Местные жители, пасшие там скот, платили ей 80 рублей в год. Наконец отец посоветовал Наталье Кирилловне заселить земли крепостными и даже подарил 300 душ. "Я их поселила, на другой год они все разбежались , не знаю отчего", - простодушно жаловалась она. И когда к племяннице Маше посватался В. П. Кочубей, возглавлявший Коллегию иностранных дел, Загряжская отдала эти земли Маше в приданое. Кочубей без особого труда сумел получить с них 50 тысяч годового дохода, чем немало удивил старую фрейлину.
История этой свадьбы сама по себе могла бы стать эпизодом романтической повести. Кочубей, увлекшись Машей, но опасаясь непредсказуемого нрава Натальи Кирилловны, долго не смел объясниться. А в это время император Павел привез из Москвы новую фаворитку - Анну Лопухину. Светские приличия требовали, чтобы двусмысленное положение молодой девицы при дворе было прикрыто формальностями официального брака. Павел, вызвав Кочубея, объявил, что приискал ему хорошую невесту. Тот сразу догадался, к чему клонится дело, и, не смея прекословить государю, бесстрашно соврал, что уже помолвлен с Машей. Павлу ничего не оставалось, как холодно поздравить его. Кочубей из дворца кинулся к Загряжской, умоляя о снисхождении и заступничестве. Та, узнав, что и ее питомица симпатизирует Кочубею, поспешила со свадьбой. Правда, вслед за этим Кочубей оказался в отставке, а Загряжская, не ставшая кланяться родне "выскочки" Лопухиной, - в ссылке. Кочубей ради любви готов был поступиться и высоким служебным положением, и выгодами императорской милости. Судьба, однако, вознаградила его сторицей: при Александре I и Николае I он пошел в гору, став государственным канцлером.
Кочубей, чья молодость пришлась на конец XVIII века, принадлежал к тому куртуазному времени, когда любовное увлечение почиталось чуть ли не главным смыслом жизни. В этой атмосфере прошла молодая пора и пушкинской графини, за которой "волочился" в Париже Ришелье и которая, видимо, тоже неспроста открыла однажды заветную тайну выигрышных карт Чаплицкому. Недаром в повести образ графини - с юности до старости - связан с розой, символом любви. На портрете, висящем в ее покоях, графиня представлена "молодой красавицей с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудреных волосах". Даже в 87 лет она выезжает в свет в "чепце, украшенном розами". Эта деталь, видимо, повторяется намеренно.
Германну, оказавшемуся на потайной лестнице дома графини, живо представилось, как здесь в прошлом, "прижимая к сердцу треугольную шляпу, прокрадывался молодой счастливец". В свете, видимо, ходили слухи о былых амурных "шалостях" графини; недаром, когда Германн появился на ее отпевании, "худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын".
Следуя примеру недавно нашумевшей пьесы Грибоедова "Горе от ума", Пушкин в "Пиковой даме" тоже сопоставляет "век нынешний и век минувший": современное общество захватывает дух меркантильности и холодного эгоистического расчета. В отличие от "молодого счастливца", нарисованного воображением Германна, сам он проникает ночью в чужой дом не на любовное свидание, а единственно ради обогащения. Без угрызения совести обманывая чувства Лизы и думая лишь об одном, как выпытать у графини тайну счастливых карт, готов, преодолев отвращение, "пожалуй, сделаться ее любовником". В мире, изображенном в "Пиковой даме", нет места чистым сердечным увлечениям. Томский, видимо, не без выгоды женится на княжне Полине, которую Пушкин причислил к великосветскому кругу "наглых и холодных невест". Должно быть, и конногвардеец Нарумов неслучайно просит Томского представить его графине сразу же после того, как в его доме прозвучал рассказ о тайне трех карт. Но Германн опередил его.
Не представляется благополучной и дальнейшая судьба Лизы. В финале сказано сдержанно и кратко: "Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини". (В повести говорилось, что слуги обкрадывали хозяйку, как только могли, управляющий же наверняка делал это с большим успехом.)
Всех, причастных к магии трех карт, в повести ждал плохой конец. Чаплицкий получил миллионы, но "умер в нищете". Погибает и графиня, владевшая этой тайной. Германн, потеряв на последней карте весь выигрыш, закончил жизнь в сумасшедшем доме. Да и судьба реального исторического лица, обладавшего тайной трех карт, Сен-Жермена, имела печальный финал. Оказавшись для многих европейских государств "персоной нон грата", Сен-Жермен провел последние годы жизни приживалом при дворе ландграфа Карла Гессенского.
Пушкин словно предупреждает: человеческое стремление проникнуть в тайны высшего промысла, желание подчинить "фортуну" личным корыстным целям, всегда наказуемо. В этом - некий непреложный закон мироздания.
Характер пушкинской графини нарисован настолько психологически точно и настолько близок натуре Н. К. Загряжской, что одна из сцен повести оказалась преддверием реальных событий. От пушкинской героини, опасаясь расстраивать, таили смерть ее ровесниц. Томский все-таки проговорился, что подруги ее молодости уже нет в живых: "Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием: - Умерла! - сказала она, - а я и не знала!" И тут же перевела речь на другое. И Загряжской боялись сообщить о скоропостижной кончине Кочубея, последовавшей в 1834 году. Но, как писал Пушкин в письме жене 11 июня 1834 года, печальное известие Наталья Кирилловна восприняла без особых переживаний: "Она утешается тем, что умер он, а не Маша". Спустя же два месяца уже сердилась на Машу, плакавшую о муже, - "Господи, да мы все потеряли наших мужей и однако же утешились!" Но особенно она негодовала на князя Кочубея: зачем он умер и тем огорчил ее Машу.
Голицына и Загряжская знали себе цену и вели себя настолько независимо, что любому другому не простили бы подобные дерзости. Однажды на вечере в Зимнем дворце Голицыной представили графа А. И. Чернышева, одного из членов следственной Комиссии по делу декабристов, рьяно использовавшего это судебное дело для упрочения своей карьеры. Как рассказывали, "княгиня не ответила на почтительный поклон первенствующего царского любимца и резко сказала: "Я не знаю никого, кроме одного графа Чернышева - того, который в Сибири". По сообщению декабриста Н. И. Лорера, "известная своим влиянием в то время на петербургское общество старуха Наталья Кирилловна Загряжская, из дому Разумовских, не приняла генерала Чернышева к себе и закрыла для него навсегда свои двери".
Не всякий, несмотря на чины и положение в обществе, удостаивался чести посещать дом Загряжской. Однажды к ней с визитом явился сановник, по какой-то причине не заслуживший ее уважения. В присутствии многочисленных именитых гостей Наталья Кирилловна громко приказала своему казачку: "Ступай к швейцару и объяви ему, что он дурак! Ему велено не пускать ко мне этого господина". Сконфуженный сановник поспешно покинул зал.
Загряжская - свидетельница пяти царствований (начиная с Петра III) - была замечатель ной рассказчицей, около нее всегда собирался круг самых видных людей. Пушкин, встречая новый, 1834 год в доме Загряжской, познакомился там с М. М. Сперанским и беседовал с ним о Пугачеве, о начале правления Александра I. А ранее в дневнике 4 декабря 1833 года он передавал воспоминания Загряжской о временах Екатерины II и отметил для себя интригующий дворцовый слух: "У Елизаветы Петровны была одна побочная дочь, Будакова. Это знала Наталья Кирилловна от прежних елисаветинских фрейлин".
П. А. Вяземский свидетельствовал: "Пушкин заслушивался рассказов Натальи Кирилловны, ловил при ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли; он в беседе с нею находил необыкновенную прелесть историческую и поэтическую..." По совету В. А. Жуковского Пушкин решил собрать для потомства истории, поведанные Загряжской, при этом передавая по возможности своеобразие ее речи. Записи нескольких отрывков сохранились в его бумагах. Возможно, они могли бы послужить источником новых пушкинских замыслов, но в январе 1837 года его жизнь оборвалась.
Загряжская и Голицына пережили его лишь на несколько месяцев. Первая скончалась в мае 1837 года на 90-м году жизни, вторая - в декабре в возрасте 97 лет.
Или , Берлин , Германия - 20 декабря , Санкт-Петербург) - фрейлина «при дворе четырех императоров»; статс-дама и кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины (в 1801 году - 2 степени, в 1826 году - 1 степени), была известна в обществе как «Princesse Moustache» («Усатая княгиня») (от фр. moustache - усы) или «Fée Moustachine» («Усатая фея »). Прототип главной героини повести А. С. Пушкина «Пиковая дама ».
Биография
Происхождение
Дочь дипломата и сенатора графа Петра Григорьевича Чернышёва от брака с Екатериной Андреевной Ушаковой . Происходила из рода так называемых новых людей, появившихся в начале ХVIII века в окружении Петра Великого .
Дедом её по мужской линии был денщик Петра I, представитель небогатой и незнатной дворянской фамилии Григорий Петрович Чернышёв . Стремительный взлёт карьеры императорского денщика начался, когда Пётр I женил его на 17-летней красавице, бесприданнице Евдокии Ржевской , дав за нею в приданое 4000 душ. И потом родившимся от этого брака сыновьям жаловал на зубок деньги и деревни .
В светских кругах ходила молва, что Наталья Петровна приходилась императору родной внучкой. Императрица Елизавета Петровна , как и её отец, осыпала Чернышёвых особыми милостями, жаловала им доходные поместья, графские титулы, и вскоре Чернышёвы стали одним из богатейших семейств России. По материнской линии Наталья Петровна была внучкой известного своей жестокостью графа А. И. Ушакова , начальника розыскной канцелярии .
Молодые годы
Точный год рождения Натальи Петровны многочисленные источники называют по-разному - или 1744 год . Сама она писала в своих заметках :
Её отец, граф Чернышёв, был отозван из Берлина и назначен посланником в Лондон в 1746 году . Так что можно с уверенностью сказать, что родилась Наталья Петровна в 1744 году .
Детство её прошло в Англии. Её мать воспользовалась продолжительным пребыванием за границей и дала своим дочерям блестящее европейское образование. Они свободно владели четырьмя языками, но плохо знали русский язык.
Став княгиней, Наталья Петровна постоянно при Дворе не находилась и бывала там лишь изредка, когда оглашались высочайшие повеления или когда получала высочайшие приглашение. Наталья Петровна подолгу жила в имениях своего отца и мужа, занималась воспитанием и образованием детей. Энергичная, с твёрдым мужским характером, она взяла управление хозяйством мужа в свои руки и вскоре не только привела его в порядок, но и значительно увеличила.
Жизнь в Петербурге
Свой дом княгиня превратила в великосветский салон для французской эмиграции. Ф. Ф. Вигель писал :

Наталья Петровна была буквально образцом придворной дамы. Её осыпали почестями. На коронации Александра I ей пожаловали крест Святой Екатерины 2-й степени . На её балу 13 февраля 1804 года присутствовала вся императорская фамилия. В 1806 году она уже статс-дама. Вначале знак статс-дамы был получен её дочерью, графиней Строгановой , которая вернула его с просьбой пожаловать им её мать. При коронации Николая I ей был пожалован орден Святой Екатерины 1-й степени. Предупредительность властей к Наталье Петровне была удивительна: когда она стала плохо видеть, специально для неё изготавливались увеличенные карты для пасьянса; по её желанию в голицынское имение в Городне могли прислать придворных певчих. По воспоминаниям Феофила Толстого , музыкального критика и композитора :
| К ней ездил на поклонение в известные дни весь город, а в день её именин её удостаивала посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя императора, сидя и не трогаясь с места. Возле её кресла стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как в последнее время княгиня плохо видела. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более или менее приветливых слов. И все посетители оставались, по-видимому, весьма довольны. Но не подумают, что княгиня Голицына привлекала к себе роскошью помещения или великолепием угощения. Вовсе нет! Дом её в Петербурге не отличался особой роскошью, единственным украшением парадной гостиной служили штофные занавески, да и то довольно полинялые. Ужина не полагалось, временных буфетов, установленных богатыми винами и сервизами, также не полагалось, а от времени до времени разносили оршад, лимонад и незатейливые конфекты. |
В высшей степени своенравная, Голицына была надменна с равными ей по положению и приветлива с теми, кого считала ниже себя. Другой современник княгини В. А. Соллогуб вспоминал :
Наряду с успехами при дворе Наталья Петровна ревностно занималась хозяйством. Она вводила в свои поместья тогда новую культуру - картофель, расширяла и оборудовала новой техникой принадлежавшие Голицыным фабрики. В 1824 году княгиня Голицына стала почётным членом Научно-хозяйственного общества.
Семья

Все современники единодушно отмечали крутой надменный нрав княгини, её характер, лишённый всяких женских слабостей, суровость по отношению к близким. Семья вся трепетала перед княгиней, с детьми она была очень строга даже тогда, когда они сами уже давно пережили свою молодость, и до конца жизни называла их уменьшительными именами.
Управляя сама всеми имениями, Наталья Петровна в приданое дочерям дала по 2 тысячи душ, а сыну Дмитрию выделила только имение Рождествено в 100 душ и годичное содержание в 50 тысяч рублей, так что он принуждён был делать долги, и единственно по желанию императора Николая I она прибавила ещё 50 тысяч рублей ассигнациями, думая, что она его щедро награждает. Только по кончине матери, прожив всю жизнь, почти ничего не имея, за семь лет до своей смерти, князь Дмитрий Владимирович сделался владельцем своих 16 тысяч душ.
Рассердившись как-то на своего старшего сына Бориса Владимировича , Голицына около года совершенно не имела с ним никаких сношений, на его письма не отвечала. Князь Борис никогда не был женат, но умер, оставив сиротами двух внебрачных дочерей от цыганки, носивших фамилию Зеленских. Они воспитывались в семье Дмитрия Голицына, и их существование скрывали от Натальи Петровны.
…Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру её поздравить и нашел там весь город. Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на её аппетит и бодрость… Нет счастливее матери, как старуха Голицына; надо видеть, как за нею дети ухаживают, а у детей-то уже есть внучата.
Вот тебе хроника П.<етер>бургская: вчера праздновали мы столетнее бытие княгини Нат.<альи> Петр.<овны>, не танцевали, но съезд был довольно многолюдный. Несколько генераций теснились вокруг пра-пра-бабки; розы доморощенные увивались вокруг векового дуба <…> Государь прислал княгине две великолепные вазы.
Княгиня Голицына была очень богата. После её смерти осталось 16 тысяч крепостных душ, множество деревень, домов, поместий по всей России. Только Н. П. Голицына, единственная, могла себе позволить для проезда из Москвы в Петербург нанять 16 лошадей. Самое большее, что позволяли себе самые богатые путешественники - это 6 лошадей на тот же путь .
Голицына и Пушкин
В молодости Наталья Петровна слыла красавицей, но с возрастом обросла усами и бородой, за что в Петербурге её за глаза называли «Княгиня Усатая», или более деликатно, по-французски «Princesse moustache» (от фр. moustache
- усы), хотя ни на одном портрете не видно этой особенности. Именно этот образ ветхой старухи, обладавшей отталкивающей, непривлекательной внешностью «в сочетании с острым умом и царственной надменностью» , и возникал в воображении первых читателей «Пиковой дамы» .
В Петербурге Голицыну иначе как «Пиковой дамой» не называли. А дом, где она проживала (Малая Морская ул., 10 / Гороховая ул. , 10), в истории города навсегда остался «домом Пиковой дамы ». После смерти Голицыной дом был куплен казной для военного министра А. И. Чернышёва . Памятник архитектуры - Министерство культуры РФ . // Сайт «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации». Проверено 2012-06-08
Близкий друг Пушкина, Павел Воинович Нащокин отмечал, что в образе старой графини (помимо Голицыной) нашли воплощение черты Натальи Кирилловны Загряжской . Пушкин признавался Нащокину, что в образе графини:
Дети
У Голицыных было три сына и две дочери:
- Пётр Владимирович (23 августа 1767 - 12 апреля 1778)
- Борис Владимирович ( -) - генерал-лейтенант , участник Отечественной войны 1812 года , скончался от ран в Вильно .
- Екатерина Владимировна ( -) - статс-дама , кавалерственная дама , с 1793 года замужем за С. С. Апраксиным , двоюродным братом матери.
- Дмитрий Владимирович ( -) - генерал от кавалерии , московский военный генерал-губернатор .
- Софья Владимировна ( -) - меценатка, жена графа П. А. Строганова .
Golitsyn Boris Vladimirovich1.jpg
Elisabeth Vigée-Lebrun Apraxine.jpg
Екатерина
Dmitry Golytsin by Hugh Douglas Hamilton.jpg
Portrait of Countess Sophia Stroganoff.jpg
Напишите отзыв о статье "Голицына, Наталья Петровна"
Примечания
Литература
Отрывок, характеризующий Голицына, Наталья Петровна
– Будить то мне его не хочется, – сказал он, ощупывая что то. – Больнёшенек! Может, так, слухи.– Вот донесение, – сказал Болховитинов, – велено сейчас же передать дежурному генералу.
– Постойте, огня зажгу. Куда ты, проклятый, всегда засунешь? – обращаясь к денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына. – Нашел, нашел, – прибавил он.
Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник.
– Ах, мерзкие, – с отвращением сказал он.
При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын.
Когда сначала синим и потом красным пламенем загорелись серники о трут, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.
– Да кто доносит? – сказал Щербинин, взяв конверт.
– Известие верное, – сказал Болховитинов. – И пленные, и казаки, и лазутчики – все единогласно показывают одно и то же.
– Нечего делать, надо будить, – сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. – Петр Петрович! – проговорил он. Коновницын не шевелился. – В главный штаб! – проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова наверное разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом, твердом лице Коновницына, с лихорадочно воспаленными щеками, на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул: лицо его приняло обычно спокойное и твердое выражение.
– Ну, что такое? От кого? – неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.
– Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему.
Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы.
Петр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев 12 го года – Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.
Выходя из избы в сырую, темную ночь, Коновницын нахмурился частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенности Бенигсен, после Тарутина бывший на ножах с Кутузовым; как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять. И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя.
Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.
Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.
Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.
С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.
«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время, вот мои воины богатыри!» – думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.
«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступления! – думал он. – К чему? Все отличиться. Точно что то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.
И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что, когда они выдумали две три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»
Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна ли была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся погибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь, но только с той разницей, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее – к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов, но одного, чего он не мог предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, – метания, которое сделало возможным то, о чем все таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы – все подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m me Stael, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.
В ночь 11 го октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.
В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.
– Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? – окликнул их фельдмаршал.
Пока лакей зажигал свечу, Толь рассказывал содержание известий.
– Кто привез? – спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью.
– Не может быть сомнения, ваша светлость.
– Позови, позови его сюда!
Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую, согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его.
– Скажи, скажи, дружок, – сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. – Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?
Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.
– Говори, говори скорее, не томи душу, – перебил его Кутузов.
Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.
– Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей… – дрожащим голосом сказал он, сложив руки. – Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! – И он заплакал.
Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.
Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад, в противную сторону.
Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутино и Малоярославец и делают предположения о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии.
Но не говоря о том, что ничто не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии (так как русская армия давала ему дорогу), историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствия, а грабила его, почему эта армия могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают?
Армия не могла нигде поправиться. Она, с Бородинского сражения и грабежа Москвы, несла в себе уже как бы химические условия разложения.
Люди этой бывшей армии бежали с своими предводителями сами не зная куда, желая (Наполеон и каждый солдат) только одного: выпутаться лично как можно скорее из того безвыходного положения, которое, хотя и неясно, они все сознавали.
Только поэтому, на совете в Малоярославце, когда, притворяясь, что они, генералы, совещаются, подавая разные мнения, последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказавшего то, что все думали, что надо только уйти как можно скорее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать ничего против этой всеми сознаваемой истины.
Но хотя все и знали, что надо было уйти, оставался еще стыд сознания того, что надо бежать. И нужен был внешний толчок, который победил бы этот стыд. И толчок этот явился в нужное время. Это было так называемое у французов le Hourra de l"Empereur [императорское ура].
На другой день после совета Наполеон, рано утром, притворяясь, что хочет осматривать войска и поле прошедшего и будущего сражения, с свитой маршалов и конвоя ехал по середине линии расположения войск. Казаки, шнырявшие около добычи, наткнулись на самого императора и чуть чуть не поймали его. Ежели казаки не поймали в этот раз Наполеона, то спасло его то же, что губило французов: добыча, на которую и в Тарутине и здесь, оставляя людей, бросались казаки. Они, не обращая внимания на Наполеона, бросились на добычу, и Наполеон успел уйти.
Когда вот вот les enfants du Don [сыны Дона] могли поймать самого императора в середине его армии, ясно было, что нечего больше делать, как только бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон, с своим сорокалетним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней поворотливости и смелости, понял этот намек. И под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же согласился с Мутоном и отдал, как говорят историки, приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу.
То, что Наполеон согласился с Мутоном и что войска пошли назад, не доказывает того, что он приказал это, но что силы, действовавшие на всю армию, в смысле направления ее по Можайской дороге, одновременно действовали и на Наполеона.
Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения. Для того чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться.
Обетованная земля при наступлении французов была Москва, при отступлении была родина. Но родина была слишком далеко, и для человека, идущего тысячу верст, непременно нужно сказать себе, забыв о конечной цели: «Нынче я приду за сорок верст на место отдыха и ночлега», и в первый переход это место отдыха заслоняет конечную цель и сосредоточивает на себе все желанья и надежды. Те стремления, которые выражаются в отдельном человеке, всегда увеличиваются в толпе.
Для французов, пошедших назад по старой Смоленской дороге, конечная цель родины была слишком отдалена, и ближайшая цель, та, к которой, в огромной пропорции усиливаясь в толпе, стремились все желанья и надежды, – была Смоленск. Не потому, чтобы люди знала, что в Смоленске было много провианту и свежих войск, не потому, чтобы им говорили это (напротив, высшие чины армии и сам Наполеон знали, что там мало провианта), но потому, что это одно могло им дать силу двигаться и переносить настоящие лишения. Они, и те, которые знали, и те, которые не знали, одинаково обманывая себя, как к обетованной земле, стремились к Смоленску.
Выйдя на большую дорогу, французы с поразительной энергией, с быстротою неслыханной побежали к своей выдуманной цели. Кроме этой причины общего стремления, связывавшей в одно целое толпы французов и придававшей им некоторую энергию, была еще другая причина, связывавшая их. Причина эта состояла в их количестве. Сама огромная масса их, как в физическом законе притяжения, притягивала к себе отдельные атомы людей. Они двигались своей стотысячной массой как целым государством.
Каждый человек из них желал только одного – отдаться в плен, избавиться от всех ужасов и несчастий. Но, с одной стороны, сила общего стремления к цели Смоленска увлекала каждою в одном и том же направлении; с другой стороны – нельзя было корпусу отдаться в плен роте, и, несмотря на то, что французы пользовались всяким удобным случаем для того, чтобы отделаться друг от друга и при малейшем приличном предлоге отдаваться в плен, предлоги эти не всегда случались. Самое число их и тесное, быстрое движение лишало их этой возможности и делало для русских не только трудным, но невозможным остановить это движение, на которое направлена была вся энергия массы французов. Механическое разрывание тела не могло ускорить дальше известного предела совершавшийся процесс разложения.
Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует известный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить снега. Напротив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег.
Из русских военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал этого. Когда определилось направление бегства французской армии по Смоленской дороге, тогда то, что предвидел Коновницын в ночь 11 го октября, начало сбываться. Все высшие чины армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить, опрокинуть французов, и все требовали наступления.
Кутузов один все силы свои (силы эти очень невелики у каждого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодействовать наступлению.
Он не мог им сказать то, что мы говорим теперь: зачем сраженье, и загораживанье дороги, и потеря своих людей, и бесчеловечное добиванье несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска? Но он говорил им, выводя из своей старческой мудрости то, что они могли бы понять, – он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним, клеветали его, и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.
Под Вязьмой Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову, извещая его о своем намерении, они прислали в конверте, вместо донесения, лист белой бумаги.